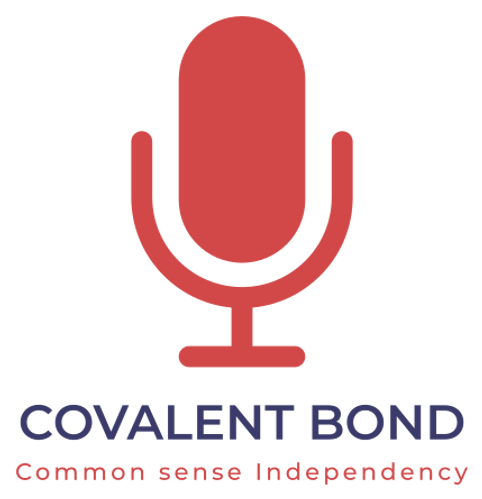Тариф против капитуляции
28.07.25
By:
Michael K.
О чём на самом деле договорились США и Евросоюз

27 июля Соединённые Штаты и Европейский союз официально объявили о заключении долгожданного торгового соглашения, которое должно было предотвратить введение 30‑процентных пошлин на европейские товары, грозивших вступить в силу с 1 августа. Основной компромиссной формулой стала ставка в 15% на большинство видов экспорта из ЕС, с рядом секторов, выведенных из-под действия общего тарифа.
В соответствии с опубликованными условиями, ЕС обязуется увеличить закупки американских энергоресурсов на сумму до $750 млрд, а также вложить порядка $600 млрд в экономику США — в том числе за счёт контрактов на оборонную продукцию, участие в инфраструктурных проектах и расширение европейского присутствия на американском рынке. По мнению администрации Трампа, соглашение стало «важной победой для справедливой торговли». Однако в европейских столицах документ вызвал противоречивую реакцию — от сдержанного одобрения до резкой критики.
Американская сторона подчёркивает, что подписанное соглашение позволит стабилизировать внешнеторговую среду, снизить напряжённость и создать предсказуемые �условия для производителей и потребителей по обе стороны Атлантики. Однако европейские аналитики уже указывают на существенную асимметрию условий, в рамках которой США сохранили право на выборочное повышение пошлин в стратегических отраслях, включая металлы и энергетику, тогда как ЕС взял на себя обязательства в жёсткой финансовой форме, без чётких ответных гарантий.
Это соглашение стало очередным элементом в новой архитектуре американской торговой политики, которую Белый дом выстраивает с начала 2025 года. Ранее аналогичные формулы были применены в двусторонних сделках США с Японией, Индонезией и Филиппинами, где угроза высоких пошлин использовалась как инструмент давления для получения уступок в области инвестиций, энергетики и признания американских технических стандартов.
О том, насколько выгодны эти условия для Европейского союза, кто оказался в выигрыше, и почему торговая формула США снова сработала — в этом разборе.
Условия соглашения
Подписанное 27 июля соглашение между США и Европейским союзом устанавливает единый тариф в размере 15% на подавляющее большинство товаров, экспортируемых из Европы в США. Эта ставка стала компромиссом по сравнению с ранее озвученным планом Вашингтона в�вести 30% пошлины с 1 августа, что затронуло бы критически важные для ЕС секторы — от автомобилестроения до химической промышленности.
Несмотря на снижение угрозы, сделка не стала полной отменой торговых барьеров. В соглашении прямо указано, что 50-процентные пошлины сохраняются на сталь и алюминий, что особенно болезненно для Германии, Италии и Испании — крупнейших поставщиков европейских металлов в США. Американская сторона заявила, что сохранение этих ставок необходимо «для защиты внутреннего рынка и обеспечения национальной безопасности» (Investopedia).
Вместе с тем документ предусматривает секторальные исключения — по ряду направлений будет применяться формула zero-for-zero. Это означает, что пошлины полностью обнуляются по взаимному согласию сторон в тех случаях, где имеется высокая степень технологической зависимости: например, для фармацевтики, полупроводников и компонентов для авиационной промышленности. Однако, как отмечает агентство AP, условия этих исключений сформул�ированы несимметрично — США получили большее количество «нулевых секторов», чем ЕС (AP News).
Также отдельно прописано, что переходные механизмы и возможные корректировки тарифов будут находиться под юрисдикцией специальной двусторонней комиссии, которая начнёт работу осенью 2025 года. Это даёт США право в одностороннем порядке пересматривать тарифные ставки — при условии доказанной угрозы национальным интересам. Такой пункт уже вызвал обеспокоенность в Европарламенте, где его сочли юридически «опасным прецедентом» (The Guardian).
Обязательства ЕС
Заключённое соглашение не ограничивается только тарифной ставкой. Европейская сторона взяла на себя ряд финансовых и инвестиционных обязательств, которые стали неформальной, но ключевой частью компромисса.
Во-первых, Европейский союз согласился увеличить объёмы закупок американских энергоносителей, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ), на сумму до 750 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Как подчёркивается в аналитике MarketWatch, эти закупки были инициированы в ответ на прямое требование США «снизить стратегическую зависимость Европы от поставок из нестабильных регионов» (MarketWatch).
Во-вторых, ЕС обязался обеспечить инвестиционный поток в американскую экономику на уровне около $600 миллиардов, включая:
• Контракты на военно-промышленную продукцию США (включая F‑35, системы ПВО и IT‑решения для обороны);
• Прямое участие европейских корпораций в инфраструктурных тендерах в США, в том числе в энергетике и строительстве;
• Расширение R&D-сотрудничества по линии новых технологий, с возможной локализацией европейских НИОКР-центров на территории США.
Кроме того, Еврокомиссия подтвердила признание ряда американских технических стандартов, включая стандарты FDA, EPA и NHTSA, для ряда товаров в фармацевтике, агропроме и автопроме. Это означает, что многие европейские компании будут вынуждены подстраиваться под американскую нормативную базу, а не наоборот.
Как подчёркивают в Atlantic Council, подобная структура обязательств демонстрирует явную асимметрию: Европа предоставляет рынки, деньги и признание стандартов, тогда как США предлагают лишь «предсказуемость» и более низкую ставку тарифа по сравнению с запугивающим сценарием 30% (Atlantic Council).
Контекст: как США строит новую торговую архитектуру
Сделка с Европейским союзом логично вписывается в последовательную стратеги�ю, которую Вашингтон реализует с начала 2025 года. Её суть — отказ от многосторонних соглашений в пользу жёстко выстроенных двусторонних сделок, каждая из которых основывается на переговорной асимметрии и тарифном принуждении.
Ранее, как уже подробно анализировал автор в статье Covalent Bond, аналогичный механизм был применён в отношении Японии, Индонезии и Филиппин. Тогда США выдвигали угрозу высоких п�ошлин — в некоторых случаях до 32% — и добивались уступок в обмен на преференции:
• Япония согласилась на 550 миллиардов долларов инвестиций в США, включая закупку 100 самолётов Boeing и увеличение оборонных расходов;
• Индонезия устранила более 99% своих тарифов на американскую продукцию, сняла ограничения на экспорт критически важных минералов и признала стандарты США в фармацевтике, сельском хозяйстве и цифровой торговле;
• Филиппины объявили о масштабной либерализации доступа для американских производителей в обмен на снижение пошлин до 15%.
Каждое из этих соглашений строилось по формуле: угроза → уступка → тарифный компромисс, но с ключевым отличием — основную выгоду в долгосрочной перспективе сохраняли именно США. Как и в случае с ЕС, американская администрация обеспечивала себе:
• контроль над условиями поставок,
• признание собственных стандартов,
• и расширение экономического влияния за пределами внутреннего рынка.
Таким образом, текущая сделка с Европой — это не исключение, а скорее логическое продолжение новой тарифной модели Вашингтона, в которой главной валютой становится не столько ставка пошлины, сколько геоэкономическая капитуляция партнёра в обмен на отсрочку давления.
Реакция в Европе
Сразу после объявления условий соглашения европейская реакция разделилась между политическим прагматизмом и жёсткой критикой. В некоторых столицах сделку охарактеризовали как «необходимое зло», в других — как откровенную капитуляцию под давлением.
Во Франции премьер-министр выступил с резким заявлением, назвав соглашение «тёмным днём для Европы», подчеркнув, что Евросоюз уступил под прямым давлением Вашингтона, не получив взамен эквивалентных гарантий (The Guardian). В Париже особенно подчёркивают тревогу по поводу сохранения 50% пошлин на сталь и алюминий, что напрямую бьёт по французским металлургическим и машиностроительным предприятиям.
В Германии официальные лица заняли более сдерж�анную позицию, признавая, что сделка позволила избежать эскалации торгового конфликта, который мог бы привести к серьёзным потерям для экспортно-ориентированных отраслей. Однако представители промышленности — особенно автомобилестроительного и химического секторов — жёстко раскритиковали соглашение, утверждая, что новый тариф в 15% всё ещё делает европейские товары неконкурентоспособными на рынке США.
Общеевропейские институции также отреагировали неоднозначно. Ряд депутатов Европарламента выразили обеспокоенность тем, что соглашение содержит асимметричные положения, позволяющие США пересматривать тар�ифные условия в одностороннем порядке. В частных комментариях европейские дипломаты признали, что переговорная позиция Брюсселя была ослаблена не только угрозой высоких пошлин, но и тем фактом, что ЕС оказался в изоляции после серийных двусторонних соглашений США с другими странами и регионами.
Как резюмирует Times of India, «Трамп знал, куда бить. Он предложил Европе не выбор, а вынужденное согласие. И получил соглашение, где выгоды США не только очевидны, но и институционально зафиксированы» (Times of India).
Кто кого переиграл
С внешней точки зрения достигнутая договорённость между США и ЕС может показаться взаимовыгодным компромиссом. 15% — не 30%, торговая война отложена, предсказуемость частично восстановлена. Однако при более внимательном анализе становится ясно: инициатива, структура и контроль над содержанием сделки остались в руках США.
Во-первых, само происхождение переговорной динамики было асимметричным: угрозу создали США, и именно они контролировали тайминг, параметры и выход из конфликта. Европа выступала не как равноправный партнёр, а как сторона, вынужденная смягчить условия капитуляции, сохранив лицо.
Во-вторых, характер обязательств отличается по весу и форме:
• США предоставили снижение тарифа по сравнению с пугающим сценарием, а также ограниченный список отраслей с нуле�выми ставками.
• ЕС, в свою очередь, обязался к конкретным финансовым действиям: закупки, инвестиции, признание стандартов — всё это имеет юридически и экономически измеримую стоимость.
В-третьих, условия соглашения оставляют открытой дверь для будущего одностороннего пересмотра. Как минимум, 50-процентные пошлины на металлургию остались, а механизм двусторонней комиссии по пересмотру условий — под американским административным контролем.
В этом контексте аналитики Atlantic Council прямо указывают, что структурно США добились большего: не только краткосрочной выгоды, но и институционального закрепления своего влияния на европейскую экономику в энергетике, обороне и стандартизации.
Европа, напротив, согласилась на системную зависимость в обмен на срочную деэскалацию, что неизбежно станет предметом внутреннего политического конфликта между правыми и левыми партиями в ключевых странах.
Значение и последствия
Заключённое соглашение между США и Европейским союзом является не только экономическим компромиссом, но и политическим маркером смещения баланса в трансатлантических отношениях. С точки зрения Вашингтона, это — ещё одна победа в серии стратегических торговых манёвров, подтверждающая эффективность нового подхода: индивидуальные сделки, основанные на угрозе, а не на равноправии.
Для Европы, напротив, сделка стала отражением ограниченности манёвра в условиях глобальной фрагментации. В ситуации, когда США последовательно выстраивают экономические коридоры с Азией и ключевыми союзниками, ЕС оказался в позиции догоняющего: не формулирующего правила, а реагирующего на чужие.
В краткосрочной перспективе соглашение, безусловно, снижает риски: откладывает торговую эскалацию, создаёт относительную предсказуемость, даёт бизнесу «временной буфер». Но в долгосрочном плане оно:
• усиливает экономическую зависимость Европы от США;
• подрывает принципы симметричной торговой политики, заложенные в рамках ВТО и прежних многосторонних договорённостей;
• и демонстрирует неспособность ЕС действовать как единый центр геоэкономической силы в условиях давления.
Кроме того, сам механизм заключения сделки — через жёсткий ультиматум и торг, а не партнёрские консультации — создаёт опасный прецедент. С высокой вероятностью аналогичный формат будет применён к другим игрокам: Южной Корее, Канаде, возможно, Бразилии или Мексике. Тарифная стратегия США, таким образом, приобретает статус новой нормы.
Соглашение ещё требует ратификации Европарламентом и одобрения в ряде стран-членов, что открывает пространство для политических дебатов и возможного сопротивления. Однако исход, по сути, уже определён. Экономическая архитектура Запада перестраивается — и делает это по чертежам Вашингтона.
Последние новости