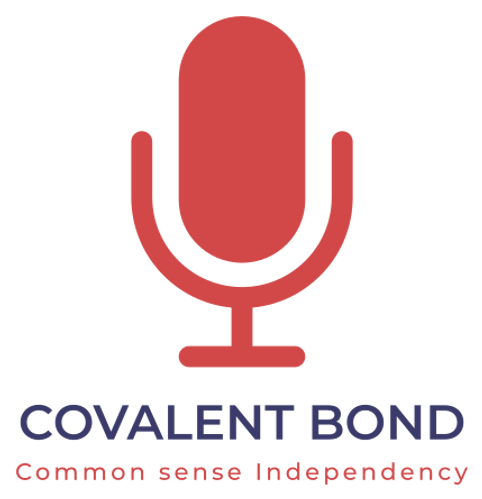Когда в нас просыпается шимпанзе: как страх меняет человечество
28.05.25
By:
Michael K.
От генов доверия до реалполитики: биология массового поведения в эпоху тревоги

Почему одни общества становятся агрессивными, а другие – мирными? Почему кризисы рождают популизм, а безопасность – альтруизм?
Эта статья исследует, как биология, гены и среда формируют массовое поведение людей — от приматов до парламентов.
Человек разумный, несмотря на все технологические и культурные достижения, остается животным с набором эволюционных поведенческих стратегий. Наши эмоции и поступки – от величайшей эмпатии и любви до ужасающей жестокости и ненависти – складывались миллионы лет и отражают двойственную природу вида Homo sapiens (CovalentBond). Мы часто удивляемся собственным противоречиям, называя самые чудовищные акты насилия «нечеловеческими», хотя в действительности они вполне человечны, укоренены в нашем биологическом наследии. Задача науки – объяснить, как эта двойственность проявляется и чем обусловлена.
Этологи и антропологи давно заметили, что поведение приматов, наших ближайших родственников, дает ключ к пониманию человеческой природы. Например, два вида шимпанзе – обыкновенный (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus) – демонстрируют разительный контраст. Обыкновенные шимпанзе живут патриархальными группами, часто проявляют агрессию по отношению к чужакам и практикуют жесткую иерархию с доминирующими самцами. У них документировано 152 убийства сородичей за ~50 лет наблюдений (в 15 разных сообществах), причём нападения чаще всего совершали самцы. Бонобо же – матриархальные «пацифисты»: за аналогичный период отмечено лишь одно предполагаемое убийство у бонобо. Их группы возглавляют самки, конфликты сглаживаются обильными сексуальными контактами, а встречи с соседними общинами превращаются не в сражения, а скорее в объединяющиеся празднества – вплоть до «общих оргий» при встрече незнакомцев (Friends of Bonobos) (Friends of Bonobos). Бонобо прославились как «любвеобильные приматы», которые вместо драки предпочитают тактильный контакт: у них секс служит природным средством снятия социальной напряженности и тревожности в группе. В результате бонобо демонстрируют самую миролюбивую стратегию поведения среди приматов – более мирную даже по сравнению с большинством человеческих обществ.
Важно подчеркнуть: среда во многом определяет, какой сценарий поведения возобладает. Считается, что бонобо эволюционировали в условиях относительного изобилия ресурсов и отсутствия конкуренции с гориллами на юге Конго – это способствовало формированию кооперативного, сексуально раскрепощённого матриархата. Шимпанзе же жили в более жестких условиях с конкуренцией за пищу и территории, что отразилось в агрессивном патриархальном укладе. Иными словами, когда окружающая среда благоприятна и безопасна, социальные животные склонны к большей терпимости и альтруизму; при дефиците и угрозах – возрастает агрессия и иерархичность. Люди не исключение: в благополучных, защищённых обществах мы наблюдаем больше доверия, щедрости и толерантности, тогда как тревога и нестабильность порождают рост подозрительности, стремление к “сильной руке” и разделение на своих и чужих. Исследования подтверждают, что под воздействием социальной угрозы люди склонны принимать более авторитарные убеждения ради ощущения безопасности (Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington). Другими словами, когда человечество «напугано», на первый план выходят наши «шима́нзе-подобные» черты – агрессия, групповой эгоизм, поиск доминирования. Когда же оно спокойно, сыто и уверено в завтрашнем дне, проявляются «бонобо-подобные» качества – эмпатия, сотрудничество, сексуальная и культурная свобода.
Генетика поведения: короткие и длинные аллели страха и доверия
Биологические различия в поведении между особями – будь то люди или приматы – во многом обусловлены генетическими вариациями. Современная социальная нейробиология и поведенческая генетика выявили гены, связанные с уровнем тревожности, склонности к агрессии, эмпатии и социальности. Один из наиболее изученных – это полиморфизм 5-HTTLPR в промоторе гена транспорта серотонина (SERT). Он представлен двумя основными вариантами: «коротким» (S) и «длинным» (L) аллелями. Серотонин – нейромедиатор, регулирующий настроение и тревожность, поэтому неудивительно, что ген SERT влияет на эмоциональную устойчивость.
Мета-анализы показывают четкие половые различия в действии этого гена. У женщин наличие короткого аллеля ассоциировано с повышенной склонностью к тревожности, депрессивности и другим «интернализующим» (направленным внутрь) реакциям. Проще говоря, женщины–носители S-аллеля чаще испытывают сильный стресс, у них выше риск депрессии и тревожных расстройств при неблагоприятных условиях. У мужчин же тот же короткий аллель проявляет себя иначе: по данным обзора, у мужчин S-генотип связан с повышенной агрессивностью, склонностью к девиантному поведению, внешней (экстернализующей) реакцией на стресс. Иными словами, короткая версия 5-HTTLPR у мужчин коррелирует с большей агрессией и нарушениями поведения, тогда как у женщин – с тревожностью и депрессией. Дополнительно, неблагоприятные жизненные события усиливают эти эффекты у обоих полов. Эти различия особенно заметны с подросткового возраста и сглаживаются у пожилых, что наводит на мысль о влиянии половых гормонов. Таким образом, один и тот же генетический вариант может по-разному влиять на поведение мужчин и женщин, усиливая типично «мужские» или «женские» реактивные стратегии – агрессию vs. тревожность.
Помимо серотонинового транспорта, важную роль играют нейропептидные системы – прежде всего окситоцин и вазопрессин, которые регулируют социальные связи и привязанность. Ген OXTR (рецептор окситоцина) также имеет полиморфизмы «длинных» и «коротких» аллелей. Окситоцин называют гормоном доверия и привязанности, и исследования подтверждают: люди с длинным аллелем OXTR более доверчивы, эмпатичны и склонны к просоциальному поведению, чем носители короткого. «Длинноаллельные» индивиды лучше распознают эмоции других, легче идут на сотрудничество. Кроме того, длинный аллель обеспечивает некоторую защиту от стрессовых воздействий детства – такие люди менее подвержены негативным последствиям травм в виде агрессивных или асоциальных проявлений. Напротив, короткий вариант OXTR связан с несколько более низкой эмпатией и открытостью, а главное – делает человека уязвимее к неблагоприятной среде: дети с коротким аллелем, выросшие в дисфункциональной обстановке, существенно чаще проявляют агрессивное и нарушающее нормы поведение во взрослом возрасте. Эти данные вписываются в гипотезу дифференциальной восприимчивости: носители «благоприятных» генетических вариантов (условно, длинных) сильнее выигрывают от хорошей среды, но и могут острее переживать негатив, тогда как «неблагоприятные» (короткие) дают относительную устойчивость к позитивным стимулам, но повышенную чувствительность к негативным (CovalentBond). Например, эксперимент показал, что у людей с генотипом GG по OXTR (две длинные аллели) поддержка окружения особенно эффективно снижает стресс, тогда как у носителей A-аллеля (короткого) стрессоустойчивость меньше зависит от поддержки (CovalentBond). В то же время A-носители OXTR при социальном напряжении проявляют более сильную эмоциональную реактивность, порой сопровождаемую вспышками агрессии. Но ключевой вывод в том, что OXTR не кодирует напрямую “агрессию” или “доброту”, а опосредованно влияет на склонность к конфликту через уровень эмпатии, доверия и стресс-реакции.
Аналогично действует система вазопрессина, важная для социального доминирования и моногамной привязанности. У приматов выявлен полиморфизм в гене рецептора вазопрессина AVPR1A, связанный с социальным поведением. У западных шимпанзе длинный аллель AVPR1A ассоциирован с так называемым «умным социальным» стилем поведения – умением кооперироваться и одновременно доминировать, проявляя гибкое лидерство. Интересно, что у самцов шимпанзе длинный вариант провоцирует более выраженное “альфа”-поведение (доминантность, импульсивность), а у самок тот же генотип – скорее “бета”-поведение (скромное лидерство, кооперативность). Это очень похоже на описанный выше случай с 5-HTTLPR: эффект гена зависит от пола. В человеческих популяциях полиморфизм AVPR1A также влияет на социальность. Согласно обзору 27 работ, вариации генов AVPR1A и OXTR вносят заметный вклад в различия социального поведения людей. Для вазопрессина показано: носители длинного аллеля более склонны к альтруизму и щедрости, но при этом осторожнее в ситуациях доверия – меньше доверяют и менее готовы кооперативно играть, опасаясь обмана. Носители же короткого аллеля, напротив, легче доверяют незнакомцам и проявляют бóльшую взаимность в доверительных играх. Это совпадает с данными по OXTR и с экспериментом, где мужчины с генотипом SS по микросателлиту RS3 (короткие аллели AVPR1A) передавали партнеру по игре больше денег, доверяя ему, и возвращали большую долю обратно в роли доверенного лица – то есть короткий вариант ассоциирован с большей доверчивостью и кооперативностью. Такая парадоксальная на первый взгляд картина – «неблагоприятный» аллель ведет к большему доверию – укладывается в идею, что эволюция сохраняет оба типа в популяции для баланса стилей: короткие аллели способствуют сплоченности группы через доверие, длинные – обеспечивают здоровый скепсис и лидерство.
У людей пока нет прямых доказательств, что длинный аллель AVPR1A увеличивает доминантность (как у шимпанзе), но косвенные данные есть. Из-за меньшей доверчивости и повышенной настороженности носители длинного варианта потенциально могут чаще демонстрировать агрессивно-доминантный стиль общения, сфокусированный на защите от возможной эксплуатации. Более того, длинные аллели вазопрессинового рецептора связаны с прочностью парных связей: парадоксально, но у мужчин они коррелируют с нарушениями моногамной привязанности – фактически, с большей склонностью к неверности или неспособностью удерживать долгую эмоциональную близость. Это не «ген измены», но показывает, как вазопрессиновая система влияет на романтическое поведение человека.
Наконец, генетики отмечают и культурно-географические различия: частоты «социальных» аллелей распределены неравномерно по миру. Например, для окситоцинового рецептора аллель G (длинный) наиболее распространён в Африке, а наименьшая его частота – в Восточной Азии. Возможность того, что такие различия частично влияют на культурные особенности – предмет обсуждений. Есть гипотеза, что популяции с большим числом «доверчивых» аллелей в среднем формируют более кооперативные, эмоционально экспрессивные культуры, тогда как преобладание «осторожных» аллелей может способствовать более сдержанным, консервативным нормам поведения. Однако это очень осторожные предположения – реальное поведение общества складывается из множества факторов, и генетический вклад – лишь один из них. Тем не менее, современные данные убеждают: биология действительно влияет на социум, хотя и опосредованно. Люди с разными генами отличаются уровнем эмпатии, тревожности, агрессивности – и потому по-разному реагируют на перемены во внешней среде. А когда среда меняется для всех, начинается большая социальная игра генотипов: одни паникуют и ищут защиты, другие агрессируют, третьи сохраняют альтруизм – и от того, у кого окажется решающая роль, зависит лицо всего сообщества.
Из генетики — в государство: как личные реакции складываются в массовые сдвиги
Индивидуальные различия в тревожности, эмпатии и склонности к агрессии формируют не только характер отдельного человека, но и поведение социальных групп. Когда в популяции увеличивается доля носителей генов, повышающих чувствительность к стрессу — усиливается общий уровень чувствительности к угрозам в обществе. При этом даже люди с высокой стрессоустойчивостью начинают перенимать доминирующие настроения — срабатывают механизмы социального заражения.
Массовое поведение — это не нечто отличное от биологии, это её производное. Если большинство чувствует тревогу, растёт спрос на «сильную руку». Если доминируют эмпатичные, уверенные индивиды — усиливаются настроения солидарности и терпимости. Таким образом, гены не управляют политикой напрямую, но они влияют на то, как общество реагирует на стрессовые события.
Этот сдвиг от индивидуальной биологии к общественной психологии — ключ к пониманию современных политических процессов. А чтобы проследить, как он реализуется на практике, достаточно взглянуть на примеры стран, где в периоды тревоги трансформируются базовые ценности, установки и нормы поведения.
Стресс, привязанность и жажда доминирования: как среда формирует социум
Как именно социально-политическая обстановка активирует те или иные глубинные механизмы поведения? Исследования в психологии массового поведения и теории привязанности показывают, что ключевую роль играет чувство базовой безопасности. Ещё Джон Боулби, создатель теории привязанности, описал: дети, получившие в раннем возрасте надёжный тыл (заботливого опекуна, удовлетворение потребностей), вырастают более уверенными и открытыми миру; лишённые же этого – более тревожными, подозрительными, склонными искать опору во внешнем авторитете. Эти шаблоны переносятся во взрослую жизнь и массовую политику. Когда внешние условия стабильны, люди легче доверяют друг другу, терпимее к чужакам, больше ценят свободу. Но в периоды потрясений – войны, экономического спада, вспышки преступности – в обществе нарастает запрос на порядок, контроль и “наведение жесткой дисциплины”. Это отражение эволюционного механизма: в угрозе выживания наши предки сплачивались вокруг сильного лидера и устраняли чужаков, а в мирное время могли позволить больше разнообразия и индивидуальной свободы.
Современные эксперименты подтверждают, что ощущение угрозы напрямую усиливает авторитарные установки. Даже кратковременное внушение людям чувства опасности повышает их согласие с утверждениями вроде «в трудные времена нам нужна одна сильная партия/лидер» (Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington). После терактов, природных катастроф или – как мы видели недавно – пандемии, по данным опросов, растет доля граждан, готовых ограничить права во имя безопасности и поддерживать более консервативные, ксенофобные политические силы (Nature) (Nature). Психологи называют это «авторитарной реакцией». Однако важно подчеркнуть: реагируют не все одинаково. Срабатывает уже имеющаяся предрасположенность, своего рода «спящий» потенциал агрессивного/тревожного поведения, о котором шла речь выше. Например, исследователь Карен Стеннер выделяла ~1/3 населения, склонную к латентному авторитаризму – эти люди в спокойные времена ничем особо не выделяются, но при ощущении угрозы резко меняют взгляды, требуя жесткого порядка и нетерпимости к «чужим». Другие же, с более высоким порогом тревожности или с большим запасом эмпатии, даже под давлением сохраняют либеральные ценности. Интересно, что это примерно соответствует распределению генетических типов. Вспомним: у шимпанзе ~60–80% особей несут «короткий» вариант гена, не дающий лидерского потенциала, и ~20–40% – «длинный» вариант, связанный с доминированием. В эксперименте Соломона Аша о конформизме 75% людей хотя бы раз поддались давлению группы, а около 25% сохраняли независимость суждений (CovalentBond). Похоже, природа «заложила» примерно в четверти из нас способность не идти за толпой, а вести за собой – либо к добру, либо ко злу.
Что происходит, когда внешние обстоятельства резко меняются? Начинается переосмысление норм – то, что можно назвать «сдвигом Окна Овертона» в массовом сознании. То, что вчера казалось радикальным, сегодня в условиях стресса представляется оправданным. Если вчера подавляющее большинство были «мирными бонобо», то под влиянием страха существенная часть быстро превращается в агрессивных «шимпанзе». Особенно сильно это проявляется, когда сигналы исходят от лидеров и культурных образцов. Люди склонны брать пример – если элиты демонстрируют нетерпимость или эгоизм, народ подхватывает. И наоборот, спокойствие лидеров может гасить панику. В психологии это описано как эффект эмоционального заражения и социального научения.
Политические сдвиги в тревожном мире: от Германии до Японии
В последние годы мы наблюдаем во многих странах то самое «смещение в сторону агрессивных стратегий», о котором говорилось выше. Растущая экономическая неопределенность, геополитическая напряженность (войны, терроризм) и даже глобальные эпидемии создают фон тревоги, на котором меняются настроения масс. Примеры этого – по всей планете.
Германия, долгое время считавшаяся оплотом либеральной демократии, столкнулась с беспрецедентным усилением крайне правых. Популистская партия «Альтернатива для Германии» (AfD), еще десять лет назад маргинальная, сейчас стабильно входит в тройку самых популярных. Более того, осенью 2024 года она впервые со времен Второй мировой войны победила на выборах в региональный парламент (земля Тюрингия). AfD особенно сильна среди молодежи: по опросам, до 22% немцев моложе 30 лет готовы голосовать за ультраправых. Что толкает юных избирателей в объятия радикалов? Исследования и сами сторонники AfD говорят о страхе и фрустрации. «Немцы боятся стать чужими в собственной стране», – объясняет одна из молодых кандидаток AfD (Euronews). Открытие границ при Меркель, наплыв беженцев и рост преступности, ощущение утраты национальной идентичности – все это питает тревогу, которая трансформируется в поддержку ультраправых идей (Euronews) (Euronews). Девиз «снова гордиться, что мы немцы» находит отклик у тех, кто чувствует угрозу своим традициям. Так культурный страх (перед мигрантами, глобализацией) превратил часть миролюбивого послевоенного общества в радикально настроенную группу, требующую закрытых границ и сильной руки.
Франция переживает схожий тренд – там центральной политической темой стали миграция и безопасность. Во Франции исторически сильны республиканские ценности равенства, но волны беженцев из Африки и Ближнего Востока, а также серии терактов вызвали сдвиг общественного мнения вправо. Осенью 2023 года французский парламент при поддержке как правительства Эмманюэля Макрона, так и оппозиции одобрил самый жесткий за 40 лет пакет антимиграционных законов. Новый закон вводит ежегодные квоты на иммиграцию, требует от иностранных студентов оплачивать залог за весь период обучения, ужесточает критерии получения пособий и упрощает депортацию нелегалов. Французские правозащитники назвали эти меры «наиболее реакционными за последние десятилетия». Макрон, придя к власти как центрист-либерал, был вынужден пойти на значительное ужесточение миграционной политики – фактически, уступить давлению правых настроений общества. Это наглядный пример, как даже элиты, декларирующие верность гуманистическим ценностям, меняют курс под влиянием массовой тревоги. Рост популярности ультраправой Марин Ле Пен и её Национального объединения тоже свидетельствует: многие французы разочарованы прежней «открытостью» и требуют защиты от перемен. Темы, которые еще недавно были табу (например, жесткий контроль над мигрантами, лишение пособий и ужесточение условий убежища), сейчас обсуждаются как новая норма. Хотя во Франции по-прежнему сильна и оппозиция таким мерам (что видно по протестам против «закона Дарманена» в Париже), сам факт принятия этих законов говорит о серьезном сдвиге общественного консенсуса в сторону приоритета безопасности над правами.
В Восточной Европе похожие процессы проявляются со своей спецификой. В Румынии на фоне экономических трудностей и коррупционных скандалов взлетела национал-популистская риторика. В 2025 году страна едва избежала прихода к власти ультраправого кандидата: лидер партии AUR Джордже Симион, открытый поклонник Дональда Трампа, выиграл первый тур президентских выборов с 41% голосов, победив в большинстве уездов, особенно в сельских регионах и среди избирателей, разочарованных элитой. Его образ «простого парня против истеблишмента» и националистические лозунги пришлись по душе тем, кто чувствует себя брошенным городскими либеральными элитами. Лишь во втором туре умеренный проевропейский кандидат сумел одержать верх, но факт остается: значительная часть румынского общества готова голосовать за «сильную руку», выступающую против ЕС, против мигрантов и за традиционные ценности. В соседней Молдавии еще ярче проявляется противоборство тревоги и надежды. Страна, находящаяся между Западом и Россией, с 2022 года переживала длительные пророссийские протесты: тысячи людей выходили на митинги против проевропейского правительства, обвиняя его во взлете цен на газ, электричество и продукты (BBC). Этими протестами заправляла оппозиционная олигархическая партия «Шор», открыто поддерживаемая из Москвы. Люди, у которых по 70% доходов стало уходить на коммунальные счета, чувствовали отчаяние и становились легкой добычей пророссийской пропаганды, обещавшей «стабильность любой ценой» (BBC) (BBC). Президент Мая Санду предупреждала о попытке России дестабилизировать страну путем нагнетания страха. В итоге правительству удалось перевести ситуацию под контроль – Конституционный суд запретил партию «Шор» как антиконституционную организацию в июне 2023 года (Reuters), указав, что она целенаправленно пыталась раскачать общество и сорвать европейский курс. Но настроение части населения осталось: многие молдаване все еще тоскуют по “простому решению”, будь то пророссийский реванш или приход «сильного лидера», который снизит цены. Молдова – пример того, как внешняя война (в Украине) и экономический шок делают общество уязвимым к внутренним расколам и популизму.
Даже далекие от Европы страны ощущают общий тренд. Япония, десятилетиями следовавшая пацифистским принципам, под влиянием меняющейся среды решается на беспрецедентные изменения. Угроза со стороны Северной Кореи и усиление Китая заставляют японцев усомниться в прежней стратегии. Правительство премьер-министра Фумио Кисиды объявило курс на резкое наращивание военной мощи: оборонный бюджет Японии планируется удвоить до 2% ВВП (около $315 млрд на 5 лет), что выведет страну на третье место в мире по расходам на оборону (LE MONDE diplomatique). Это кардинальный отход от послевоенного пацифизма: японские Силы самообороны теперь получат право не только защищать территорию, но и наносить превентивные удары по базам противника при угрозе (LE MONDE diplomatique) (LE MONDE diplomatique). По сути, Япония адаптируется к новой реальности, где надеяться на один лишь дипломатический «зонтик» США недостаточно. Общество, еще недавно протестовавшее против любых милитаристских шагов, постепенно принимает эту идею – под влиянием реальной опасности. Примечательно, что эти дебаты активизировались после событий на Украине и агрессивных действий России: японцы увидели, что мирные договоры могут быть нарушены, и решили, что «на Бога надейся, а сам не плошай». Хотя в Японии сохраняется и движение за сохранение пацифистской конституции (статья 9), настроения сдвигаются: все больше граждан считают, что стране нужна сильная армия, даже ценой отказа от давних идеалов (LE MONDE diplomatique) (LE MONDE diplomatique). Страх перед войной буквально переписывает общественный договор в стране, где он казался нерушимым.
Эти примеры – лишь часть широкой картины. США, Великобритания, Бразилия, Турция – везде можно проследить, как периоды потрясений поднимают волну консервативно-авторитарных тенденций. Но одновременно есть и обратные силы: в тех же обществах появляются «мини-социумы» людей, стремящихся сохранить либеральные и гуманистические ценности, подобно «островкам бонобо». Как отмечал Ваш покорный слуга в исследовании «Мирные люди», в наиболее развитых демократиях есть часть населения, живущая как бы по «бонобо-образцу»: они толерантны к чужим мнениям и образу жизни, поддерживают свободу самовыражения и равноправие, и статистически именно они демонстрируют наибольший уровень счастья. Однако эти люди разбросаны тонким слоем и зачастую политически пассивны, тогда как более «агрессивно настроенные» группы легко самоорганизуются и громче заявляют о себе. В итоге голос «миролюбивого меньшинства» нередко тонет в хоре страхов и требований простых решений.
Прагматизм вместо ценностей: новая норма мировой политики?
Особого внимания заслуживает роль ведущих держав, задающих тон глобальным нормам. Если в прошлом веке США и ряд европейских стран старались декларировать приверженность правам человека и гуманизму (пусть часто и избирательно), то в последнее время заметен поворот к более прагматичной, реалистичной внешней политике. «Мы вернулись в мир, который лучше всего объясняет реализм, – где великие державы конкурируют за влияние, а остальные приспосабливаются как могут», – констатировал политолог Стивен Уолт после начала войны в Украине (The International Spectator). Эта фраза хорошо отражает дух времени. Российское полномасштабное вторжение, резкое обострение соперничества США и Китая – всё это вернуло в моду логику Realpolitik, игры силы без оглядки на идеалы. Даже демократические лидеры все чаще рассуждают в категориях геополитических интересов, а не общего блага человечества.
На примере войны в Украине видно, как прагматизм вытесняет гуманизм на уровне государственных решений. С одной стороны, Запад помог Украине выстоять – поставками оружия, санкциями против агрессора – и казалось бы, здесь проявилась ценностная солидарность демократий (The International Spectator) (The International Spectator). Но с другой стороны, эта поддержка строго дозирована и продиктована расчетом: Украину снабжают ровно настолько, чтобы она не проиграла, но и не настолько, чтобы втянуть НАТО в прямую войну. США и союзники избегают «чересчур эффективной» помощи, способной привести к краху России, опасаясь собственной ценой столкнуться с ядерной эскалацией или экономическими потерями. Фактически, жизнь украинцев стала разменной монетой в большой игре – им помогают ровно настолько, насколько это выгодно для сдерживания России, но не больше. Некоторые критики называют это «войной до последнего украинца», отмечая, что гуманитарные соображения (страдания мирного населения, массовые жертвы) отходят на второй план перед стратегическими: важнее ослабить противника и подать сигнал Китаю, чем спасти каждую жизнь. Конечно, официально западные лидеры говорят о ценностях свободы, но действенные шаги зачастую продиктованы холодным расчетом. Например, когда в 2022–23 гг. на глобальном рынке возник дефицит энергоресурсов, европейские демократии без особых колебаний заключили сделки с авторитарными режимами (Саудовская Аравия, Катар) на поставки нефти и газа, хотя еще недавно клеймили их за нарушение прав человека. Принцип «реальная политика превыше моральных принципов» все явственнее просматривается и в риторике, и в действиях.
Для остального мира это подает сигнал: двойные стандарты допустимы, национальный интерес важнее красивых идеалов. Если Запад, столь долго учивший всех демократии, теперь сам ради выгоды дружит с диктаторами и ведет прокси-войны, то почему бы и другим странам не делать то же самое? Такая индифферентность к универсальным гуманистическим ценностям потихоньку становится «новой нормой». В ООН и других международных форумах все чаще слышны голоса: мол, хватит говорить о правах человека, давайте признаем реальность – каждый сам за себя, сильный прав, слабый должен искать покровительства. Это крайне опасный сдвиг. Его уже чувствуют на своей шкуре люди в зонах конфликтов: коли уж державы решили действовать цинично, то гибнут прежде всего простые граждане – как сирийцы, как йеменцы, как та же многострадальная Украина. Гуманитарное право и нормы сдерживания агрессии размываются, если сильные игроки их обходят ради выгоды.
Однако, обращаясь к научному анализу, можно сказать: подобное огрубление международных норм – тоже часть цикличности поведения Homo sapiens. Когда лидер глобальной системы (США) меняет курс с идеализма на прагматизм, это отражает внутренние изменения: растущую усталость общества от роли «мирового жандарма», страх перед издержками, раскол мнений. Эпоха Дональда Трампа особенно показала склонность Америки к изоляционизму и сделкам вместо морального лидерства. Трамп открыто восхищался автократами, урезал гуманитарные программы, ставил принцип «America First» превыше союзнических обязательств. И хотя администрация Джо Байдена частично вернула ценностную риторику, общий тренд сохраняется – американское общество больше не готово нести моральное знамя бесплатно. Как отмечают исследователи, после периода идеализма 1990-х мы наблюдаем «реванш реализма» – великие державы действуют согласно своим сферам влияния, а не абстрактным принципам (The International Spectator) (The International Spectator). Это воспринимается многими странами как индульгенция на собственный эгоизм. Если раньше нарушителя международных норм могли ожидать изгнание из «клуба цивилизованных», то сейчас таких «клубов» почти не осталось – вместо них разношерстные блоки по интересам.
Значит ли это, что человечество обречено на новый виток глобальной агрессии? История учит, что маятник качается: после всплесков реалполитик часто следуют периоды осмысления и создания новых норм – правда, порой ценой катастроф. Возможно, увидев ужасы войны и авторитаризма, новые поколения снова взыщут ценностей. Природа Homo sapiens двояка, и в нас всегда будет борьба «шимпанзе» и «бонобо». Но знание этой природы – уже половина решения. Если понимать, что агрессия расцветает из страха, а страх – из ощущаемой угрозы, то разумные политики могут стремиться уменьшать ощущение угрозы для людей: укреплять социальную защиту, бороться с неравенством, вести дипломатический диалог вместо милитаризации. Это создает среду, где меньше оснований для примитивных реакций. Эпигенетические исследования показывают, что стрессовые события могут «перепрошивать» экспрессию генов и даже передаваться следующим поколениям, закрепляя циклы насилия. Но работает и обратное: длительный мир и благополучие могут ослабить «воинственные» черты – фактически, «одомашнить» агрессию, как были одомашнены волки в собак. Не случайно некоторые ученые сравнивают эволюцию бонобо и людей с одомашниванием: отбор против агрессии мог сыграть роль в формировании более эмпатичных существ (eScienceCommons Emory University).
В заключение стоит вернуться к метафоре «Мирных людей». Бонобо представляют собой живой пример того, как общество приматов может быть относительно гармоничным, без тирании и войн – эдакая утопия, где конфликты гаснут дружелюбием и сексом. Ваш покорный слуга и автор оригинального исследования справедливо называет бонобо альтернативной реальностью, реализовавшейся в природе. Люди, разумеется, куда сложнее, но суть одна: мы не инопланетяне, мы дети природы, и наши самые страшные и самые прекрасные качества имеют корни в животном прошлом. Понимая это, можно трезвее смотреть на социальные процессы. Когда в обществе растет агрессия, авторитаризм, ненависть – это не «внезапное помешательство», а активация определенных эволюционных программ под влиянием среды. Зная природу этой реакции, человечество способно – если захочет – менять среду так, чтобы лучшие наши черты брали верх над худшими. Это задача междисциплинарная: и для нейробиологии, и для генетики, и для социологии, и для политиков-практиков.
Сегодня, увы, мы видим во многих местах движение от утопии к дистопии: «идея ассимиляции разных культур под флагом добра и мира провалилась…», как горько замечено в моей статье «Мирные люди». Мир раскалывается, и в каждой стране уживаются «микро-шимпанзе» и «микро-бонобо» – группы людей с противоположными взглядами и ценностями, которым все труднее понять друг друга. Но эволюция – не предопределенность. У Homo sapiens есть мышление и культура, способные смягчить диктат генов. Возможно, признание своих животных инстинктов – первый шаг к тому, чтобы не поддаваться им слепо. Ведь мирные люди – это не утопия, это тоже часть нас. Наша задача – дать ей шанс стать новой нормой.
Источник и ключевые идеи: в статье использованы материалы оригинального исследования «Мирные люди» Михаила К. на CovalentBond, а также данные современных научных работ по приматологии, генетике и социологии поведения. Эти знания помогают связать воедино биологические основания и социальные проявления, объясняя сдвиги в поведении человеческих обществ при изменении среды на всех уровнях – от молекул до мировых держав.
Последние новости